Главная » 2013 » Июнь » 17 » Тот уголок ЗЕМЛИ
14:54 Тот уголок ЗЕМЛИ | |
 Когда ранней весной видишь пушистую вербу в талом лесу или чаек в
московском небе, в душу как бы возвращается молодость с ее бессмертными
надеждами и скитальческим зовом. Привычные, казалось бы, слова «лед
пошел» или «вальдшнепы тянут...» приобретают волшебный смысл, а
радиовесть о начале навигации на Волге воспринимается, как открытие
неведомого мира. Огромный, трехэтажный тепло-ход, сияющий солнечной белизной и осененный алыми флагами, горделиво и стройно высится у Химкинского причала. На борту теплохода — дощечка о волнующей надписью: «Следует первым рейсом», на палубе тон-кий и влажный запах краски, в салоне чистота хрусталя и зеркал, и всюду — весенняя свежесть воды, воздуха, ветра... От этой свежести по-юношески туманится , голова и сладко замирает сердце от мысли, что через день будет Волга, а через два — «тот уголок земли», тот как бы сказочный, родимый город, где осталась молодость, воскрешенная весной. В нашем городе, как, вероятно, и во всех поволжских городах, о Волге говорили с сыновней нежностью, называли ее самыми теплыми именами — матушка, кормилица, радость, — величали в самых задушевных песнях. В нашей семье жили, не отделяя себя от Волги (и от природы вообще), с праздничным чувством ждали ледохода, зачитывались «путеводителями», каждой весной получаемыми из Нижнего, собирали открытки с изображениями поволжских городов, пароходов и «росшив». Сколько, в самом деле, радостей приносила весна! Вот март, Евдокия-капельница, хрупкие, светящиеся «сосульки», потом Герасим-грачевник, представлявшийся в образе мудрого старика с черными птицами на плечах, а там добрый Алексей, человек божий, пробуждающий от она горы, заставляющий их бурно гудеть водой. Бродишь, бывало, — как бы один во всем мире, — по ночным горам, смотришь то вверх, на караваны звезд, на их вечное течение по Океану Времени, то вниз, где те же звезды голубым песком уносились в певучих потоках, — радуешься уже оттого, что вволю дышишь вкусным, как бы яблочным, запахом воды и снега и что завтра опять будет солнце, тепло, ветер с юга. Скоро наступал ледоход — и город целых три дня заслушивался его шорохом и скрежетаньем, хрустом и пальбой, засматривался на ледяные утесы, со звоном воздвигавшиеся и рассыпавшиеся у берега, где при блеске костров смолили рыбачьи лодки. — Пристань ведут! — слышался вдруг бойкий мальчишеский голос. Небольшой задорный буксир, свистя и вздрагивая, тянул тяжелую голубую пристань. Она прочно устанавливалась у берега, соединяясь с ним новыми, скрипучими, до капустной белизны расструганными мостками, и на ее высокой мачте вскидывался кремовый «самолетский» флаг. А потом — первый пароход из Рыбинска, его ловкий, плавный полукруг, его как бы раскаленные колесные плицы, по которым битым стеклом свергалась вода и стекала пышная, сливочная пена. Щегольская одежда капитана на вахте — заломленная набекрень фуражка, распахнутая черная шинель с золотыми пуговицами, — отрывистые и тоже щеголеватые матросские выкрики, стремительная, разворачивающаяся на броске «чалка», медленно выползающий из воды витой канат, — все это было полно вековой поэзии Волги, вековой русской красоты... Трогательно было видеть, как два седобородых старичка в старомодных картузах и поддевках, крепко жали друг другу руки; — С открытием навигации. — И вас тоже, Старички смотрели на уплывающий пароход, на стаю журавлей в туманно-бирюзовом небе, на прибрежные деревья, покрытые легчайшим пухом первой листвы, и счастливо вздыхали: — А времечко-то, времечко-то ка-кое... — Истинно благорастворение воздухов... Еще веселее, легче и счастливее чувствовали себя охотники, встречавшиеся то на базаре, душисто пропахнувшем ванилью и шоколадом, то на горах, откуда в туманно-синей бесконечности открывалась влажная весенняя Россия... — Ты куда сегодня вечером —на тягу или на болото? Городской портной Кожин ухарски подвивал рыжие усы и, снимая зеленую шляпу с синим тетеревиным пером, радостно басил: — Я — на тягу: для меня нет лучше этой охоты и этой птицы —золото в пышных перьях. — А я — на болото. Вечерком, на зорьке, посижу с уточкой, переночую в бору, а утром — на тетеревиный ток... — с волнением отзывался молодой, задорный сапожник Молдареев. В годы моего отрочества рядом с нами шил столяр Вася Сорокин, тоже молодой человек с луновидным лицом, сплошь обсыпанным, как горохом, веснушками, и такой завзятый охотник, что его почти никто не называл по фамилии, только по кличке — Выжлец. Простосердечный и добродушный. Вася вкладывал в охоту действительно всю душу и, будучи поэтом в душе, особенно любил весну и осень: он был отличным мастером трубить в рог и бесподобно владел манком на селезня. Весной он нередко приносил кряковых селезней, и я, подросток, до головокружения любовался их царственно радужным брачным нарядом, как любовался золотым благородством вальдшнепиной окраски и смуглой тетеревиной синью, особенно прелестной в сочетании с алым огоньком бровей и перловой белизной подхвостья.  Но меня восхищал не только окрас дичи, но и ее запах. В запахе селезня ощущался холодок весеннего болота, в запахе
вальдшнепа — свежесть лесного апрельского заката, в запахе косача —
прохлада талой земли и первых подснежников. Когда же Вася принес однажды
глухаря, я не отходил от него чуть ли не час: птица-великан с могучими
задубеневшими лапами, алебастровым клювом и пышной грудью, как бы
осыпанной изумрудной и перламутровой пылью, унесла воображение в
дремучий бор, откуда повеяло глубокой древностью, уже тогда остро
чувствуемой мною через ворожбу охотничьих книг... Но меня восхищал не только окрас дичи, но и ее запах. В запахе селезня ощущался холодок весеннего болота, в запахе
вальдшнепа — свежесть лесного апрельского заката, в запахе косача —
прохлада талой земли и первых подснежников. Когда же Вася принес однажды
глухаря, я не отходил от него чуть ли не час: птица-великан с могучими
задубеневшими лапами, алебастровым клювом и пышной грудью, как бы
осыпанной изумрудной и перламутровой пылью, унесла воображение в
дремучий бор, откуда повеяло глубокой древностью, уже тогда остро
чувствуемой мною через ворожбу охотничьих книг...Через несколько лет и в моих руках оказалось ружье — легкая, красивая, прикладистая двустволка «Пи-пер-Баярд» в нарядных завитках и золоченых насечках, — и я всей глубиной души познал, впитал, перечувствовал вечную радость весны, украшенной охотой. Я не мог наслушаться вдоволь симфонией утра, где тон задавали токующие косачи, с благоговением вдыхал и впивал аромат молодых листьев и росы на вечерней заре, высоко расстилавшей по стемневшей лазури свой бархатно-красный шарф, не только глазами, но и сердцем воспринимал первую звезду, лучисто, по-девичьи, взглянувшую е Севера,.. Весна с каждым днем все щедрее и обильнее распускалась цветоносным раем: зеленели — сначала тонко и нежно, а потом резко, почти звонко, — березы, липы, тополя и, наконец, старые дубы; расцветали подвенечной белизной вечно юных надежд черемухи, яблони, вишни; лиловый дым сирени сочетался с первыми грозами и мгновенным счастьем ослепительной радуги, а соловьиные пеани — с первыми лепестками шиповника. II Отроческие и юношеские поездки по Волге сохранились в душе на всю жизнь. Помню ощущение некоторой зыбкости под ногами, когда пароход, отчалив от пристани, набирал «полный ход», помню гудение и сверкание расчищенной машины, помню уют каюты — полосатые чехлы на кожаных пружинистых койках, шелковую желтую штору в окне, бесшумно колыхавшуюся от ветра. Еще сильнее волновала палуба, просторная, солнечная, мерцающая алмазными каплями на борту, — там, где внизу особенно бурлила и разноцветно пенилаеь вода, а над водой; совсем рядом с поручнями, кружились снеговые чайки с коричневыми головками LH рябиновыми лапками. А как просторно и широко, во всей своей неоглядности, открывался с палубы милый волжекий мир, как веселили встречные пароходы и обгоняемые, буксиры или бесконечные илоты с соломенным шалашом, около которого бесцветно горела «теплинка», по-лесному пахнувшая дымком и по-речному — ухой... Мы ездили обычно вверх по Волге'— в Кострому или Ярославль. До чего же шумны и пахучи были эти старинные города! Берег оглашали песни грузчиков, грохот катившихся бочек и тяжко сбрасываемых ящиков, ржанье лошадей и выкрики продавцов, а улицы, по которым вез нас бойкий, стриженный в «скобку» извозчик, удивляли обилием вывесок и объявлении, опьяняли запахами копченой рыбы и шагреневой кожи, вянущих цветов и приторной парфюмерии, восточных пряностей и лимонада. Хорошо было бродить по этим залитым народом улицам, дивясь кажущейся огромности домов, несказанной прелести древних шатровых храмов, обилию голубей, рассыпавшихся по сторонам с гулом водопада, отдыхать на приволжском бульваре, под густейшими липами, как бы запиравшими солнечные лучи, сидеть в узорном тереме-павильоне, холодя горло крутым, ледяным мороженым.  Особенно влекли меня, уже с отроческого возраста, книжные и охотничьи магазины. Особенно влекли меня, уже с отроческого возраста, книжные и охотничьи магазины.В книжных магазинах ощущался свой, особый запах — прохладной бумаги, острой типографской краски и как бы засушенной розы, — и блаженно слепило глаза множество неизведанных книг, которые так хотелось бы купить. С какой жадностью листал я столичные новинки, заслушиваясь шорохом страниц и любуясь обложками то благородно простыми, то изощренно нарядными, как долго ломал голову, решая, что выбрать на свои скудные средства, с каким, почти религиозным благоговением брал в руки художественные издания — альбомы ' Левитана, Нестерова, Врубеля и как восторгался букинистическими редкостями: кожаным золото-тионенным или бархатным переплетом, синеватой, шершавой бумагой, прихотливыми виньетками в форме урн и горлиц, лир и медальонов... А охотничьи магазины переносили в дивную страну темного бора и неоглядного поля, затрагивали самые драгоценные чувства, навевали мечты о будущих охотах. Здесь находилось все, чем жило мое воображение с младенческих лет: сверкающие сталью и маслом гравированные серебром ружья, кожаные скрипучие ягдташи с длинными сетками тончайшего плетения, медные польские и литовские рога, металлические и бумажные гильзы, пахучие сапоги с ремешками, зеленые куртки с широкими, как медали, пуговицами, на которых изображались оленья или кабанья голова, чучела русака и тетерева, рябчика и вальдшнепа. И как необычно узорно звучал здесь язык, на котором говорили охотники, как надолго врезались в память такие выражения, как «некрасовские луга», «златовенецкие озера», «монастырские дубравы»... Навсегда запомнился всгреченный однажды в магазине рыжебородый великан, оказавшийся охотником-лесничим из Унженских лесов и замечательно рассказывавший и об их дремучей глуши, и о своих тамошних охотах. — Мошников в наших лесах, что голубей на базаре, — говорил он, неспешно перебирая меховую, тронутую сединой бороду, — а поляшей и не счесть, как не счесть звезды в небе. Чуть только засветится весна-красна, леса наши — как органы и гусли, столь тетеревья токует-беснуется по белберезнику, столь глухаря поет по темьбору. — А рыси есть? — Есть и рыси. Хоронятся в самой тайной гущине, ночью идут на разбой, ловят зайцев, тетеревов, к утру на сытое брюхо на дерево забираются, глазами блещут, как угольями. — А медведи? — Обитает и господин Топтыгин в наших палестинах. Двадцать шесть голов добыл на своем веку. Двадцать — пулей, шестерых — на рогатину, по старинке-матушке, чтоб потешиться прадедовским обычаем: «раззудись плечо, размахнись рука...» — Но ведь для этого нужна и большая сила, и большая отвага? Великан усмехнулся со сдержанной гордостью и страстностью и поднялся во весь рост. Глаза его вспыхнули, брови схмурились. — Силой всевышний не обделил. Оно, конечно, дело страховитое — один на один стоишь со смертью... она с ревом движется на тебя, и тут уж стой, не плошай, не оглядывайся и не раздумывай... Охотник, тяжело дыша, сжал кулаки и оглянулся вокруг, будто и впрямь после схватки с медведем, а я как бы зрительно, ощутимо увидел вдруг и дремучий зимний лес, и поверженного медведя с рогатиной в груди, и на меня пахнуло старинной русской охотничьей удалью... А возвращались мы домой на ночном пароходе, и это тоже давало незабываемую отраду. В мае-июне на верхней Волге стоят розовые ночи, погружающие реку и берега не в сон, а в дремоту, светящие зарей-заряницей, которая неугасимо-грустным пламенем льется с запада на восток. Мне казалось, что спать во время ночной поездки стыдно и грешно, и я неустанно бродил и бродил по тихой палубе, рщущая на лице звонкость и влагу брызг, смотрел и смотрел на бледные огни бакенов, схожих с оранжевыми мотыльками, и на лазурные крупинки обесцвеченных звезд. Потом я замечал таинственное рождение предутреннего света — зеленоватые и пурпурные тона на воде, улавливал крики проснувшихся чаек на острове, мелодичный плач куликов-веретенников на песках, свист утиных крыльев и вскорости видел пригородный лес, пропахнувший ландышами и звучный, как музыкальный ящик, от несметных соловьев, А там — излучина, поворот, и на горах, заросших густыми березами и липами, — родной город, уже совсем посветлевший но все еще дремотный, весь палевый, сказочно отраженный в Волге, в ее чистейшей застывшей глубине... III Теперь,
спустя более полувека, город кажется мне стародавним Китежем, ушедшим
на потаенное дно самых заветных, самых счастливых воспоминаний. Иногда, особенно весной, до моего слуха доносится его грустный и нежный, зовущий «перезвон» — и нарядный теплоход под алыми флагами уносит меня в родные края... Теплоход легко и плавно скользит тихим Волго-Московским каналом, одолевая один за другим шлюзы, увенчанные каравеллами Колумба или гордыми изображениями Серпа и Молота, раздольно выплывает на Рыбинское море, почти лишенное — зрительно — берегов, шумно покачивается на крутых волнах, весело бьющих в борта. Ослепительно-бесконечный простор, упоительно-свежий ветер, грустно-счастливые крики чаек; как тут не молодеть сердцем и душой... Канал и Рыбинское море — славное дело рук человеческих — давно уже вошли в национальный быт и стали 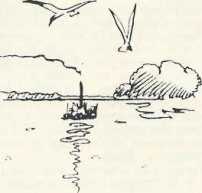 неотъемлемой частью родного пейзажа, как стали ею и многочисленные
новостройки на волжских берегах: заводы и фабрики, пламенеющие по ночам
огненными сотами, дома отдыха и санатории, гулкие электростанции, одна
из которых (Волгореченск) высится невдалеке от родного моего города.
неотъемлемой частью родного пейзажа, как стали ею и многочисленные
новостройки на волжских берегах: заводы и фабрики, пламенеющие по ночам
огненными сотами, дома отдыха и санатории, гулкие электростанции, одна
из которых (Волгореченск) высится невдалеке от родного моего города.А по сторонам попрежнему зеленеют, мятой и ландышем, полынью и ржаным колосом пахнут поля и леса, доносятся соловьиные песни и поскрипывание коростеля: индустрия призвана мирно и органически сосуществовать с «первородной» природой, как сосуществуют труд и отдых — основы человеческого бытия. И, кружа по широкой палубе теплохода, жадно вдыхая тепло и свежесть, я думаю: — Ветер Времени сурово веет над миром :— топит в морских волнах Атлантиду, рушит вековые царства и троны, оставляя от них цветные обломки, уносит наших близких и нас самих, горестно шумит травой на забытых могилах... Но и этот сокрушительный ветер не всевластен: есть великое и вечное нечто, противостоящее времени, — бессмертная любовь человека к Родине, волшебный исток которой — «Тот уголок земли», где мы родились и выросли. До конца дней проносим мы в душе любовь к этому благословенному уголку, как проносят пилигримы в ладонке на груди горсть иссохшей и все же чудотворно живой родной земли; И потому все, что связано с этим уголком, неувядаемо светится в нашей памяти, будто любимый цветок в сказочной живой воде. Автор: Николай СМИРНОВ Рисунки: В. ЕСАУЛОВ Журнал «Охота и охотничье хозяйство» | |
| Категория: Литературная СТР. | Просмотров: 1024 | | |
| Всего комментариев: 0 | |
Форма входа
Новые комментарии
Реклама